Человек в литературе Древней Руси. Дмитрий Лихачев
Чтение книги онлайн.
Читать онлайн книгу Человек в литературе Древней Руси - Дмитрий Лихачев страница 13
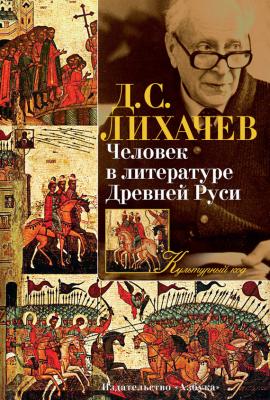 или автор исторической повести писал темной краской, сторонников – светлой. Летописец, автор и себя подчинял этикету феодального общества, вводил себя в иерархию феодализма: свое служение феодалу он переносил в свою писательскую деятельность. Летописец того или иного князя, того или иного монастыря, епископа выражал в своих творениях верность сюзерену. В большей мере, чем какой бы то ни было автор других веков, он подчинял задачи своего труда задачам служения своему сюзерену, оценивал события и людей так, как это ему подсказывали его обязанности подданного – человека, стоящего на одной из низших ступеней феодальной лестницы и связанного ее принципами. Отсюда уже отмеченная нами официальность литературы.
или автор исторической повести писал темной краской, сторонников – светлой. Летописец, автор и себя подчинял этикету феодального общества, вводил себя в иерархию феодализма: свое служение феодалу он переносил в свою писательскую деятельность. Летописец того или иного князя, того или иного монастыря, епископа выражал в своих творениях верность сюзерену. В большей мере, чем какой бы то ни было автор других веков, он подчинял задачи своего труда задачам служения своему сюзерену, оценивал события и людей так, как это ему подсказывали его обязанности подданного – человека, стоящего на одной из низших ступеней феодальной лестницы и связанного ее принципами. Отсюда уже отмеченная нами официальность литературы.
Как в изображениях на мозаиках и фресках XI–XIII вв., князь в летописи всегда официален, всегда как бы обращен к зрителю, всегда представлен только в своих наиболее значительных поступках. Его речи при переговорах и на съездах князей, перед дружиной или на вече всегда лаконичны, значительны и как бы геральдичны. Порой они звучат как призывы, обращают на себя внимание своею образностью, удачно найденными формулами, сжато отражающими всегда одну и всегда основную мысль.
Геральдичность и церемониальность не требуют пространного выражения. Они обращены вовне – к зрителю и читателю. Поступки, дела, действия, слова и жесты – основное в характеристиках князей. В летописи описываются эти действия и поступки, но не психологические причины, их вызвавшие.
Князья в летописи не знают душевной борьбы, душевных переживаний, того, что мы могли бы назвать «душевным развитием». Князья могут испытывать телесные муки, но не душевные терзания. На всем протяжении своей жизни, как она фиксируется в летописи, князь остается неизменным. Даже в тех случаях, когда летописец и говорит о душевных колебаниях князя, кажется, что он больше взвешивает все «за» и «против», чем испытывает нерешительность. В таких случаях сама несмелость предстает как черта политических убеждений, а не характера. Старчески слабый князь Вячеслав Владимирович[65] выглядит в изображении летописца мудрым князем, отрешившимся от политики, хотя и продолжающим находиться на княжеском столе. Для летописца не существует «психологии возраста». Каждый князь увековечен в своем как бы идеальном, вневременном состоянии. О возрасте князя мы узнаем только тогда, когда возраст (как и болезнь) мешает его действиям. Если в летописи говорится о детстве князя, то летописец стремится и здесь изобразить его как бы в его сущности князя. Ребенок-князь начинает битву, бросая копье (Игорь), или защищает мать с мечом в руках (Изяслав), или совершает обряд посажения на коня. С момента «посага» (обычно в восьмилетнем возрасте) летописец по большей части уже не упоминает о возрасте князя, оценивая его поступки как поступки князя вообще. О юности князя летописец вспоминает только тогда, когда юноша-князь умирает и окружающие оплакивают его безвременную кончину[66].
В
См.: Ипатьевская летопись, под 1149–1154 гг.
Повесть временных лет. М.; Л., 1950. Т. 1. С. 144: «Ростислава же искавше обретоша в реце; и вземше принесоша и Киеву, и плакая по немь мати его, и вси людье пожалиша си по немь повелику,